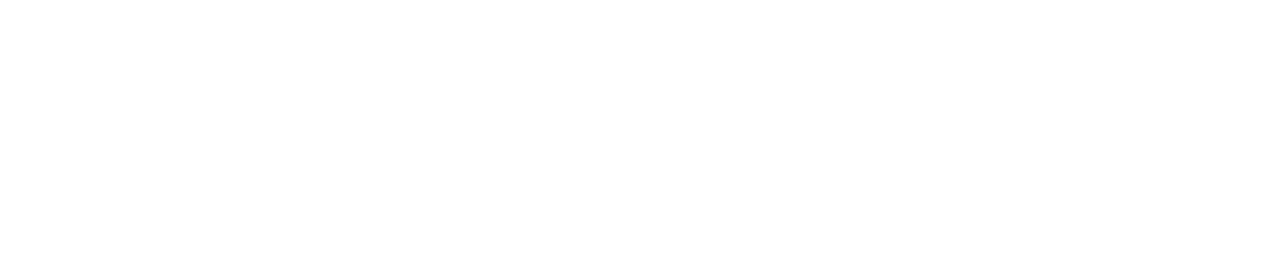В Астане открылся первый центральноазиатский хаб социальных предпринимателей. Его основатель Эмин АСКЕРОВ убежден: объединяя бизнес-подход и эмпатию, можно менять судьбы людей и решать проблемы, которые государству в одиночку не под силу.

— Эмин, как родилась идея хаба? Почему вы открылись именно в этом году?
— В 2020 году я создал команду, и мы приступили к разработке хаба. Тогда понял, что нужно место силы, место притяжения, которое объединяло бы социальных предпринимателей и помогало решать ключевые запросы — от производства до развития проектов. Хотелось, чтобы в одном пространстве были кофейня для общения, зона для обсуждений и генерации идей, конференц-зал для тренингов, коворкинг, где можно работать, студия для создания видеоконтента и инфраструктура под все это. Мы полностью разработали концепт, но я понял, что по бюджету не потяну, это была очень дорогая идея. Тогда решил создать ассоциацию социальных инноваторов. И я очень рад, что тогда не получилось: пять лет назад не было нужных рычагов. Мы зарегистрировали юрлицо, ассоциация фактически просуществовала три года, а в этом году на ее базе мы и открыли хаб. Сначала объединили представителей социальных перемен по Казахстану, а потом уже создали пространство, это было правильно. Рад, что Вселенная тогда не позволила форсировать события.
— Сколько на сегодняшний день насчитывается членов ассоциации?
— Около 130 резидентов по всему Казахстану. Мы очень внимательно относимся к тем, кого берем: нужны сильные социальные предприниматели, ключевые в своих направлениях. Ассоциация стала плавным переходом: сначала объединили, потом создали хаб.
— Что представляет хаб сейчас, какие сервисы предлагает?
— Хаб изначально задумывался как международный. Мы взяли курс на Центральную Азию, чтобы делиться практическим опытом с соседями. Тема социального предпринимательства не делит людей ни по национальности, ни по полу, ни по возрасту: у каждой страны свои социальные проблемы, и зачастую они идентичны. В прошлом году консультировали Таджикистан, в этом ведем переговоры с Азербайджаном. Обучаем коллег из Узбекистана. По направлениям: кофейня, коворкинг, тренинги, событийная повестка, менторство плюс научно-исследовательский центр. Мы смотрим, какие социальные проблемы есть, куда движемся, и предлагаем решения. Сейчас разработали методику по трудоустройству социально уязвимых категорий. Впервые будет такой большой талмуд для предпринимателей, чтобы системно закрывать вопрос занятости. А количество людей из этих категорий, к сожалению, растет.
— Как сейчас обстоят дела с квотами? Насколько мне известно, предприятия должны брать в штат людей с инвалидностью.
— Да, есть квота по линии Министерства труда и социальной защиты населения: все предприниматели со штатом от 50 сотрудников должны трудоустраивать лиц с инвалидностью. На практике работодатели часто боятся, что они не справятся, а социально уязвимые соискатели — что их не поймут. Поэтому одна из ключевых задач хаба — мы разрабатываем концепцию частного центра занятости для социально уязвимых категорий (опираемся на свой практический опыт) и внедряем обучающий компонент для HR крупных компаний: как нанимать, как адаптировать, где сильные стороны кандидатов. По теме трудоустройства мы будем объяснять, как правильно трудоустраивать и в чем сильные стороны соискателей.
— Это проблема одной стороны или обеих?
— Больше со стороны работодателей — они боятся, что не смогут трудоустроить. Социально уязвимые категории боятся, что окажутся неспособными. Поэтому нужно готовить и тех, и других. Через частный центр занятости планируем учить элементарному: как готовить резюме, как проходить собеседование. По каждой категории свои особенности. Например, у людей с нарушением слуха — одни, и работодатель должен их знать. Сейчас при этом наблюдаю большой дефицит рабочей силы, особенно по рабочим специальностям, и мне нравится, что крупные компании начинают разворачиваться к социально уязвимым категориям.
— Если говорить о соискателях с нарушением слуха: нужен ли в команде сотрудник, владеющий жестовым языком?
— Мы создали кофейню и сразу трудоустроили четверых: двое с ментальными особенностями и двое с инвалидностью по слуху. Жестовым языком мы не идеально владеем, но жесты творят чудеса — можно научиться объясняться. В крайнем случае в помощь — телефон: записываем и понимаем друг друга. Решения типа карточек с базовыми жестами на столиках тоже рассматриваем.
— Как вы выстраиваете работу с сотрудниками с ментальными особенностями?
— Если чувствуем, что сотрудник становится агрессивным, отправляем домой, держим контакт с родителями. Но социализация настолько выросла, что за последние два-три года мы про обострение почти забыли. Первые пять лет в Green Tall я часто замечал: обострение было у каждого второго, а сейчас его вообще нет.
— Сколько человек трудоустроено сегодня?
— За 10 лет через Green Tall прошло около 1000 сотрудников из социально уязвимых категорий. Сейчас по всем нашим предприятиям трудоустроено 65 человек, в хабе — 10.
— Сохраняется ли стигма в отношении бывших осужденных или общество стало мягче?
— Бывшие осужденные — самая уязвимая категория с точки зрения стереотипов. Работодатели очень осторожны и не идут навстречу. Если по людям с инвалидностью доверие растет, то по отношению к судимым нет. По Астане буквально два месяца назад: состоят на пробационном учете 2850 человек, из них 850 — безработные. Проблема большая. Более того, есть лица, осужденные условно, их тоже не берут, потому что есть справка о судимости, хотя человек в колонии мог и не сидеть. Слово «судимый» — как красная тряпка. Самое страшное — не давая им возможности самореализации, мы толкаем их обратно на преступление: им нужно закрывать базовые потребности. По неофициальным данным, в Казахстане каждый седьмой уже отбывал наказание. Сейчас порядка 33 тысяч человек отбывают наказание, колонии переполнены.
— В Павлодаре вы открыли филиал в колонии. Этих людей нужно доучивать?
— Они обучены. В свободное время занимаются деревом, металлом и т. д. Это клад кадров, эпицентр профессионалов. За минимальную зарплату они готовы работать, и их выработка превышает выработку многих на гражданке. Условия хорошие: аренды нет, минимальная заработная плата — 85000 тенге. Где на воле найти сегодня такого специалиста за эти деньги?
— А общество готово принимать продукцию, изготовленную ими?
— Когда открывал цех, очень переживал: «Как мы будем продавать? Это же сделано их руками, как покупать детям?». Мы сняли несколько роликов про людей и мотивацию, и стереотипы ушли. В одном ролике мой сотрудник сказал: «У меня четверо детей. Эта работа помогает скоротать время: я представляю, что дети сидят рядом, я их учу — и делаю игрушки». Когда запускаешь такие истории, вопросы исчезают — люди готовы поддерживать и покупать.
— Какие первые отклики получил хаб? Какие запросы удается закрыть уже сейчас?
— Мы показали, что социальные предприниматели и те, кто хотят стать на эту тропу, могут здесь получить всю необходимую информацию и поддержку. Каждый вторник в 15.00 — бесплатная консультация по теме социального предпринимательства: как вступить в реестр и т. д. Для всех желающих — каждую неделю бесплатные мастер-классы на актуальные темы, от финансов до презентации. Для всех состоящих в реестре социальных предпринимателей место в коворкинге бесплатно. Я попросил друзей-тренеров подарить полтора часа хабу — и все начали откликаться. В итоге программа забилась до конца года. Тренеры дорогие, информация бесценная. И самое приятное — люди выходят после мастер-классов и спрашивают: «Эмин, что мы можем сделать для твоего хаба? Хотим быть причастными к добрым делам». За десять лет наше гражданское общество сильно изменилось. Мы стали социально ориентированнее, и это классно.
— Когда, по-вашему, произошел поворот к большей социальной ориентированности?
— Когда пришло понимание, что государство и Правительство не способны в одиночку решать социальные проблемы. Возникло чувство патриотизма: «А что я могу сделать для своей страны?». Особую роль сыграли январские события: мы увидели, что многое зависит от нас. Необязательно быть госслужащим, чтобы менять страну. Последние два-три года — кардинальная разница во взглядах людей.
— Давайте поговорим про закон о социальном предпринимательстве: насколько он полно разработан и как должен работать? И в продолжение вопроса о кадрах. Реально ли закрыть дефицит кадрами из социальной категории?
— Если говорить о законе, он шикарно разработан. По мерам поддержки мы можем быть лидерами. Но есть другая сторона медали: из девяти мощных преференций работают только две. Уже третий год не можем добиться подзаконных актов. Работаем напрямую с Миннацэкономики, но из-за частых перестановок руководителей высшего звена дожать тему сложно. По рабочим специальностям — отличная инициатива государства. Но молодежь редко ставит это в приоритет: приходишь в школы, спрашиваешь: кто хочет быть сварщиком, комбайнером? Единицы. А что будет с нашей страной через 10-20 лет? Кто будет работать на полях? Социально уязвимые категории — те, кого можно и нужно направлять: они ищут работу, не боятся труда и могли бы закрывать ключевые позиции. Нравится подход Израиля: по их программе к 2031 году они должны трудоустроить 51% лиц с инвалидностью — это сэкономит бюджету около 6 млрд (смотрят через финансовую призму). Мы даже не ставим вопрос так: «Сколько сэкономит государство за счет трудоустройства?». А нужно смотреть и экономику, и социальные аспекты.
— На каких специальностях могут работать люди с инвалидностью?
— Зависит от категории. Пример Green Tall: люди с инвалидностью по слуху прекрасно работают в столярном и швейном деле. Ребята с ментальными особенностями — хорошие помощники и в столярке, и в швейке, и в водосточном цехе. Их руки применимы везде, где нет опасной техники и оборудования, чтобы не пораниться, учитывая интеллектуальные особенности. Бывшие осужденные со сохранным интеллектом — фактически везде, где нет работы с детьми, школой, педагогикой. Матери-одиночки, малообеспеченные — везде, пенсионеры, ребята из детдомов, кандасы — тоже везде (с учетом организации графика). Если говорить о людях с нарушением зрения — шикарно проявляют себя в контакт-центрах на телефоне. Планируем запустить курс рисования для незрячих: наш художник обучает рисованию на ощупь, их картины можно продавать. Он учит рисовать чувствами: сначала трогают предмет, затем переносят на картину — у него есть своя методика. Уникальный навык: покажи картину — он закрывает глаза и воспроизводит ее руками один в один, и этот навык передает незрячим. Вообще, у них очень развита тактильность: когда Всевышний одно забирает, другое дает. Из них получаются прекрасные массажисты — чувствуют тело и точки. Знаю много историй, как незрячие массажисты буквально исцеляли людей.
— Есть ли истории, когда ваши сотрудники запускали собственные проекты? Поделитесь кейсами.
— Один кейс — наш сотрудник, который очень долго отбывал наказание. На момент встречи ему было 62 года, из них 35 — в местах лишения свободы: сидел во всех колониях Казахстана, а порой отправляли и в Москву, и в Украину. Он всегда шел против системы, сильный духом человек. Статья — убийство плюс добавляли за нарушения режима. Он пришел и сказал: «Знаю про ваше предприятие. Всю жизнь занимался плохими делами. Последние пять лет ушел в традиционный ислам (без фанатизма) и хочу помочь ребятам с ментальными особенностями». Он — профессиональный художник, зарабатывал рисованием картин. Попросил: «Дай мне твоих ребят — сделаю из них художников». Отказать было страшно — в глазах сила, хотя он худее меня. Мы его трудоустроили, и за два года он сделал из наших ребят-аутистов настоящих художников. Потом уехал в Тараз: «Открою свое дело, Тараз мне ближе, там больше всего сидел». Там он объединил ребят: рисуют картины, делают деревянные изделия без формата, держим связь — это важно.
— А примеры с многодетными мамами или выпускниками детдомов?
— Есть матери-одиночки, которые после нас открывали свои швейные направления. Я своим всегда говорю: мы не конкуренты. Если вы выросли и готовы сами — отлично, я помогу и подскажу, мы держим связь. Green Tall — трамплин: задача не удержать, а развить и отправить, чтобы дальше человек работал на себя.
— Green Tall изначально ориентировался на ребят из детдомов. Как идет обучение?
— Изначально фокус был на детдомовцах и людях на колясках. За 10 лет ни один детдомовец у нас не задержался дольше трех месяцев. Постоянные нарушения, опоздания. У меня правило: три нарушения, на четвертое — основание для расставания в течение года. Было ощущение, что они нужны мне больше, чем я им. Проанализировал — государство создало тепличные условия: слишком много опеки и подарков, навык самовыживания не сформирован, за работу не держатся. За 10 лет ни одного, кто бы закрепился.
Понимая, что в 18 лет сознание уже сформировано, мы сделали пилот в детдоме № 1 на Сейфуллина, стали работать с детьми 10-12 лет. Открыл столярный цех, взял кредит, купили оборудование, командировал двух сотрудников. Дети приходили, мы обучали, изделия продавали — деньги на развитие. Через три месяца закрыли столярку. Почему? Помню 11-летнего мальчика: смотрит дерзко и говорит: «Эмин, зачем мне работать на тебя? Сегодня спонсоры привезли телефон, через неделю обещали велосипед подарить. Я продам и будут бабки». Это у многих встроено: придут — подарят. Перелом пошел, когда начали вовлекать ребят из неблагополучных семей: у них мотивация зашкаливала — как помочь маме? Детдомовцы смотрели на них, мы миксовали группы — помогало, но системно тяжело. Детдомовцы перестали приходить, цех закрыл, я еще год рассчитывался по кредиту. Опыт полезный, но сложный.
— Какими качествами должен обладать социальный предприниматель?
— Это середина между НПО-шником и бизнесменом. Нужно иметь большое сердце и эмпатию и при этом холодный разум. И уметь говорить «нет»: всем не поможешь. Если в этой жизни ты поможешь хотя бы одному, уже не зря прожил. Нужно уметь считать деньги и чувствовать боль человека. Как говорится: если ты чувствуешь боль — ты жив, если чувствуешь боль другого человека — ты человек.
— Подведем итог. Ваше резюме: что для вас значит социальное предпринимательство в начале вашей деятельности и сейчас? Что оно дает государству и людям?
— Для меня десять лет назад это было про трудоустройство и желание ломать стереотипы. Сегодня — это тренд, который способен изменить ситуацию в мире. Ни одно правительство не способно решать социальные проблемы за счет госаппарата — они решаются гражданским сектором и руками социальных предпринимателей. Нас уже двенадцать с половиной миллионов, и число растет. Это та приятная часть бизнесменов, которые в первую очередь думают, как помочь и решить, а уж во вторую — как зарабатывать. Чем больше нас будет, тем меньше будет проблем.
Екатерина ТЫЩЕНКО