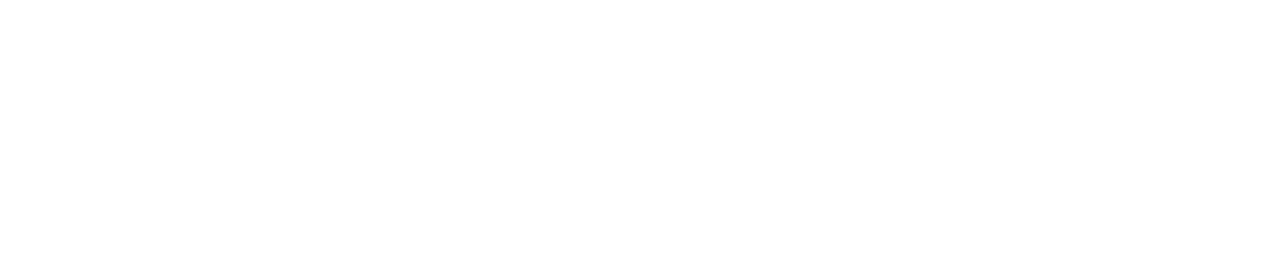Игрушки, которые управляют нами?

Откуда берутся массовые увлечения игрушками вроде Хагги Вагги и Лабубу? Почему взрослые тоже вовлекаются в эту волну и готовы часами смотреть на забавные видео с пищащими антистрессами? Что происходит в психике, когда человек хочет быть в теме, и где граница между игрой и попыткой найти себя?
Вместе с психологом Юлией МАРКШТЕДЕР мы размышляем, почему такие тренды возникают, чем они нас так цепляют и что это говорит о нашем обществе и каждом из нас.
— Юлия Анатольевна, почему, на ваш взгляд, такие странные игрушки, как Хагги Вагги, Лабубу, так быстро становятся популярными? Что психологически цепляет людей в их образах?
— Образы Хагги Вагги и Лабубу работают по принципу эмоционального парадокса — они одновременно могут вызывать умиление, симпатию и в то же время пугать. Такой контраст дает очень сильный эмоциональный отклик: мозгу сложно проигнорировать настолько противоречивый сигнал. В психологии это описывается как когнитивный диссонанс, и именно за счет него такие персонажи становятся запоминающимися, вирусными. Мимо них сложно просто пройти.

— Какие маркетинговые приемы сделали эти игрушки такими востребованными среди детей и подростков?
— Хотелось бы немного поразмышлять о маркетинговых приемах. Как я уже говорила, основа популярности — это странная, противоречивая милота: сочетание милых черт с элементами агрессии. Это вызывает двойственные эмоции, которые помогают сильнее запоминать образ и усиливают эмоциональный отклик — это одна из ключевых фишек.
Следующий прием — коллекционирование. Выпуск коллекций стимулирует дополнительный интерес и спрос: появляется мотивация собрать все, добыть редких персонажей. Это также усиливает вовлеченность. Также используется искусственный дефицит — лимитированные версии, редкие экземпляры. Даже если разница между оригинальными и неоригинальными игрушками формальна, сам факт редкости подогревает интерес.
Отдельно стоит отметить, что продвижение шло в основном через соцсети TikTok, Instagram, блогеров. Это не была прямая реклама в классическом понимании «купи-купи», скорее, образ создавался через значимых персон: «Они пользуются — значит и я хочу». Это намного эффективнее, особенно для подростковой аудитории. Кто-то из блогеров предложил новое применение этим игрушкам: использовать как аксессуар, брелок, вешать на сумку. Возможно, изначально производители этого не задумывали, но практическая функция добавила популярности, особенно у Лабубу.
Работает и классическое социальное доказательство. Например, моя дочь сказала, что ей хочется игрушку потому, что у всех есть. То есть срабатывает типичная вирусная модель: мне это нужно не потому, что сама игрушка особенно привлекательна, а потому, что она есть у всех, и я тоже хочу быть частью этого. Формируется ощущение необходимости за счет социального давления.
Ну и визуальный аспект тоже важен: кислотные цвета, необычная мимика — все это создает яркое впечатление. Мы и так живем в условиях сенсорной перегрузки, в мире визуального шума, и, чтобы что-то действительно выделялось, оно должно быть максимально выразительным, эксцентричным. Это привлекает внимание, вызывает противоречивые эмоции и, как результат, может формировать устойчивую эмоциональную привязанность к этим игрушкам.
— Можно ли говорить о том, что это не просто мода, а способ эмоциональной разрядки?
— Если рассуждать о том, что это не просто мода, то можно предположить, что внешний вид этих игрушек — своего рода отражение теневой части личности. Они помогают перерабатывать внутренние переживания — страх, злость, напряжение — в символической, безопасной форме.
Мы знаем, что, например, детская психотерапия часто строится через игровую деятельность: рисование, арт-терапию, ролевые игры с разными персонажами. И можно предположить, что через такие игрушки, которые, с одной стороны, выглядят мило, а с другой — достаточно агрессивно и вызывающе, дети могут выразить сложные эмоции: агрессию, тревогу, страх. И это происходит в безопасных условиях — ребенок может вступать в контакт с той частью себя, которая злится, пугается, проявляет поведение, социально неприемлемое в обычной жизни.
Вообще, есть такая тенденция: в условиях внешнего стресса, когда политическая ситуация нестабильна, когда общество переживает пандемию, военные действия или масштабные социальные изменения, интерес к абсурдным или пугающим персонажам возрастает. И, возможно, именно потому, что это становится способом выразить внутреннее напряжение, справиться с ним, подружиться с этими чувствами. Такие персонажи помогают найти выход переживаниям через символическую форму, через игру, где можно проиграть свои страхи и тревоги, не испытывая прямой угрозы.
— Некоторые психологи утверждают, что люди, включая взрослых, идентифицируют себя с цветом, мимикой и формой таких игрушек. Что стоит за этим эффектом?
— Да, это действительно так. Механизм проекции работает у нас всегда, во многом наши выборы тоже могут основываться на проекциях. Лабубу и Хагги Вагги — не исключение. Человек может узнавать в этих персонажах свое состояние: хмурое, усталое, у кого-то это может символизировать протест, у кого-то — одиночество.
В принципе, это могло бы происходить с любой игрушкой, но здесь работает эффект сильного контраста и неоднозначности образа. Например, если мы берем игрушки, которые всегда улыбаются, это одна, понятная эмоция. А когда перед нами миловидная игрушка с неоднозначным выражением лица, с тревожными или даже пугающими чертами, появляется больше пространства для проекций. Каждый может увидеть в ней что-то свое.
Второй момент, скорее, касается детско-подростковой психологии. Подростковый возраст сам по себе предполагает бунт. Это период: «Я не такой, как все. Я иду против правил. Я нарушаю нормы». И в этом смысле интерес к таким персонажам — тоже символическая форма протеста, попытка отделиться от взрослого мира.
С одной стороны, подростки как будто бы становятся одинаковыми — все не такие, как другие. Но, с другой стороны, в этом звучит послание миру: «Я такой, каким хочу быть. Странным, агрессивным, непонятным».
— Почему подросткам особенно важно быть в теме и владеть хайповыми игрушками? Это форма самоутверждения или адаптация в среде сверстников?
— Я бы сказала, что это, прежде всего, связано с вопросом социальной идентичности. С одной стороны, подросткам важно не быть как взрослые — происходит такое внутреннее противопоставление взрослому миру и его требованиям: быть культурными, аккуратными, спокойными, добрыми и так далее.
На этом фоне возникает сильный контраст с тем, что подросткам нельзя быть злыми, хулиганистыми — за это взрослый мир их отвергает. И тогда персонажи вроде Лабубу или Хагги Вагги с их неоднозначностью становятся очень символически близкими. Они как будто отражают самих подростков: внешне — еще дети, но внутри — масса напряжения, связанного с переходным возрастом, поиском себя.
Если говорить дальше о социальной идентичности, подростки формируют представление о себе во многом через принадлежность к группе сверстников. И обладание такой хайповой игрушкой становится своего рода маркером: «Я свой, я в теме, меня примут». Это способ самоутверждения — через общее проявить индивидуальность.
То есть, с одной стороны, у всех есть Лабубу, а с другой — мой особенный, у меня не такой, как у всех. И в этом одновременно есть и адаптация, и стремление выделиться.
— Как вы оцениваете влияние этой моды на психику? Развивает ли это креативность или, наоборот, усиливает внушаемость и тревожность?
— Думаю, что психика все же сильнее, чем влияние самих игрушек. Скорее, если изначально у ребенка или подростка психика более зависимая, неустойчивая, тревожная, тогда действительно может развиться определенная фиксация, например, страх потерять популярность, постоянное сравнение себя с другими. Это может проявляться в чрезмерной зацикленности на этих игрушках: в стремлении собрать всю коллекцию, выделиться за счет них и так далее.
Если самооценка строится только на том, сколько у меня этих игрушек и какая у меня коллекция, и не опирается больше ни на что другое, тогда, конечно, это может быть проблемой. Решающую роль играет не сама игрушка, а тот эмоциональный фон, на который она накладывается. Если это просто элемент игры, повод для вымышленных историй, то неважно, чем играет ребенок — Хагги Вагги, куклой или солдатиком.
Сильного негативного влияния, скорее всего, не будет, если у ребенка в целом все в порядке с тревожностью, самооценкой, если он хорошо развит и социализирован. В этом случае такая мода не представляет серьезной угрозы.

— Как взрослым реагировать на такие массовые увлечения детей — запрещать, игнорировать или включаться в игру? Где проходит граница между нормой и поводом для беспокойства?
— Запрет будет только усиливать сопротивление и интерес. Вместо этого можно проявить любопытство: попробовать узнать, почему ребенку это нравится, что именно его в этом привлекает. Это дает ребенку возможность осмыслить свой выбор, свой интерес и может быть прекрасной возможностью вовлечься в игру — без высмеивания, без критики, с принятием и искренним вниманием. Так выстраивается платформа для сближения с ребенком: вы начинаете говорить на его языке, поддерживать его актуальные увлечения.
В каждом поколении были свои кумиры, и это нормально. Не должно быть так, что все, что нравилось нам в детстве, должно нравиться и нашим детям.
Поводом для беспокойства может стать не сам интерес к игрушке, а когда он становится навязчивым. Например, если это сопровождается регрессией поведения — когда ребенок будто бы становится младше или если сильно меняется его эмоциональный фон: он становится тревожным, агрессивным.
Но, вообще, такие игрушки — это просто очередная волна культурного феномена. И на этой волне может происходить некоторое сплочение: это то, что объединяет детей, вокруг чего строится их коммуникация. И это нормально. Так было всегда.
Екатерина ТЫЩЕНКО
Фото Ясмины УВАЛИЕВОЙ