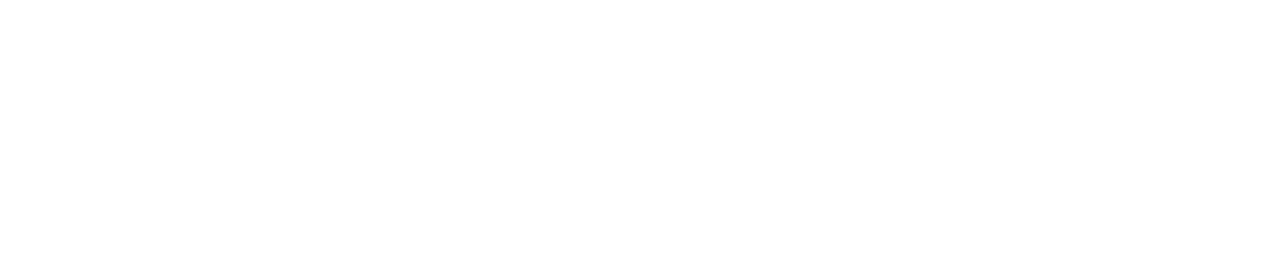Когда беседуют руки

Айдана ЖАПАРОВА, в девять лет сопровождая маму с нарушением слуха, еще не знала, что жестовый язык станет ее профессией. Сегодня она сурдопереводчик инклюзивного театра «Қанаттылар». Она переводит спектакли, поет песни жестами на сцене с известными артистами и мечтает открыть школу, где каждый родитель сможет выучить язык, на котором говорит его ребенок.

— Айдана, расскажите, как вы пришли в профессию сурдопереводчика?
— Я знаю жестовый язык с детства — мои родители глухие. Можно сказать, я выросла с ним. С девяти лет начала сопровождать маму буквально везде: в аптеку, магазин, на ее работу, в свою школу, на родительские собрания. Я была ее ушами и голосом. После смерти папы мы с ней остались вдвоем, и я стала ее незаменимым помощником и переводчиком.
В 2015 году я получила : свидетельство «Специалист Жестового языка».По профессии начала работать в 2016. Мне предложили пройти обучение и получить официальный документ, подтверждающий мою квалификацию. Конечно, я согласилась. Обучение длилось три месяца и было бесплатным.
Что касается других, «обычных» людей, которые хотят выучить жестовый язык. Да, они могут пройти курсы, но это уже не для перевода, а скорее для общего понимания или работы в другой сфере. Например, можно выучиться на сурдопедагога. Таких специалистов готовят в колледжах и вузах, например, в Алматы или за рубежом.

— Будучи ребенком, вам трудно было выучить язык жестов?
— Жестовый язык я выучила постепенно, как обычные дети учат речь. Когда малыши начинают говорить первые слова — «мама», «дай», «подай», — мама учила меня выражать это жестами. Она сама мне все показывала, объясняла. Я хорошо запомнила один момент: мне тогда было около шести лет. Мама сажала меня к себе на колени и учила. Многие думают, что если человек глухой, значит, он немой. Но это не так: у людей с нарушением слуха и слабослышащих есть голос. Просто он звучит немного иначе, может быть непривычен для постороннего человека. Моя мама тоже говорила — у нее был немного своеобразный голос, но я все понимала, потому что это была моя мама. Она произносила слова и одновременно показывала жесты: «мама», «папа», «не хочу». Так шаг за шагом я и училась у нее языку, который стал для меня родным.
— А как давно вы в качестве сурдопереводчика пришли работать в театр «Қанаттылар»?
— В 2022 году меня пригласил директор инклюзивного театра. Но сначала я отказалась. Я переехала с семьей из Караганды в Астану и здесь устроилась менеджером по продажам. Работа переводчиком в театре на тот момент не привлекала — жестовый язык оставался частью моей жизни, но не как профессия. Целый год я просто наблюдала за театром со стороны. А потом Арнур снова позвал — пригласил на спектакль: «Приди, просто посмотри». Я пришла… И это был очень трогательный спектакль. Я даже расплакалась. Мне понравилась не только постановка, но и сама атмосфера — теплая, искренняя, живая. Тогда я и решила: «Хочу попробовать. Давайте я приду, поработаю, посмотрю, как пойдет». Так я и оказалась здесь. В тот момент в театре было 11 или 12 подростков — слабослышащих ребят, многие из них носили слуховые аппараты. Я познакомилась с ними, мы начали общаться, и мне стало по-настоящему комфортно. Я поняла, что хочу работать именно здесь — ради них. Мне легко с ними, мне нравится быть рядом, нравится то, что мы делаем вместе.

— Я знакома с системой Брайля, она отличается в зависимости от языка. А скажите, в разных регионах и странах жестовый язык отличается?
— Да, страны СНГ в основном используют русский жестовый язык. Многие ошибочно думают, что в Казахстане есть казахский жестовый язык, но на самом деле его не существует. Все глухие, слабослышащие и переводчики у нас пользуются именно русским жестовым языком. Конечно, в разных регионах могут быть свои особенности — нечто вроде сленгов или диалектов. Некоторые жесты показываются немного по-разному, но в основе все равно остается русский жестовый язык. Если говорить шире, то в других странах, например, в Америке, Китае или Турции, используются совершенно другие жестовые языки. Моя мама знает русский жестовый язык, турецкий и немного английский, и они все отличаются, у каждого свой набор жестов. После распада СССР, когда началось разделение республик, начали появляться новые жесты, связанные с национальной культурой. Например, появились жесты для слов «шельпек», «бесбармак», «баурсак» — их раньше просто не было. Что касается казахских имен, со временем начали появляться обозначения и для букв казахского алфавита: ә, і, ғ, ү, ұ, қ, ө и других. Это стало важно, потому что многие имена у нас именно казахские, и мы передаем их по буквам.
— Расскажите немного о специфике жестового языка.
— Жестовый язык — это вообще очень интересная и необычная форма общения. Здесь важно абсолютно все: и точность жестов, и мимика. Могут быть одинаковые жесты, но чуть разные движение кистей : куда крути , суббота трясем на право-на лево. В нашем театре я раз в неделю провожу занятия по основам жестового языка для актеров. Это помогает им лучше понимать и взаимодействовать с глухими и слабослышащими участниками коллектива. Хотя многие из них уже хорошо владеют жестами, мы продолжаем заниматься, чтобы поддерживать уровень и не терять навык.
Это не просто движение руками. Это еще и мимика — без нее вообще никак. Эмоции, тональность, даже оттенки смысла передаются именно через выражение лица. Например, один и тот же жест в сочетании с разной мимикой может означать либо «сырость», либо «рано». Поэтому важно правильно не только двигать руками, но и выражать лицом — это целостная система.

— А как вы справляетесь с переводом сложных слов? Бывают же, например, какие-то термины или заимствованные слова…
— Вообще, если сравнивать, жестовый язык сам по себе не такой объемный — в нем не так много жестов, как может показаться. Поэтому я часто подбираю альтернативу: нахожу жест, близкий по смыслу, и использую его. Например, если спектакль идет на казахском языке, я сижу сбоку и перевожу для зрителей с нарушением слуха. Но при этом я не перевожу напрямую с казахского на жестовый язык. Сначала в голове перевожу с казахского на русский, а уже потом — на русский жестовый язык.
Когда идет прогон, я обязательно присутствую на репетициях: просто сижу, смотрю и стараюсь понять содержание, улавливаю реплики, сюжет. Если слышу какое-то сложное слово на казахском, которого не понимаю, подхожу к режиссеру, уточняю. Он объясняет, и я продолжаю работать. Во время самого спектакля я сижу сбоку сцены, в луче света, но так, чтобы не отвлекать зрителей от игры актеров. А с той стороны зала, ближе ко мне, сидят глухие зрители. Они то смотрят на сцену, то на меня — так мы создаем для них полноценное восприятие происходящего.
— Следите ли вы за коллегами, которые переводят новости или кино?
— Меня не раз приглашали работать на телевидении, но я отказывалась. Для меня это сложно. Я очень эмоциональная, активно жестикулирую, у меня мимика живая. А телевидение требует сдержанности, точности, строгости. Это совсем другое.
Нужно отметить, что переводчик в театре и переводчик на телевидении — это две абсолютно разные профессии. Их нельзя сравнивать. У меня есть коллеги, которые работают в новостях — они переводят четко, сухо, сдержанно. Но они, например, не смогут перевести песню. У них движения жесткие, мимика сдержанная, потому что они привыкли к определенному формату. А я — наоборот. Я перевожу песни, спектакли. В кадре же мне тесно, я начинаю «мотаться», не могу удерживать себя в рамках. Это как певцу вдруг стать диктором новостей — не его стиль, не его пространство.
Я уважаю своих коллег на телевидении, понимаю, насколько это сложная работа. Но это не мое. Я пробовала — и поняла, что мне комфортнее там, где можно передать эмоции, движение, энергетику.
— А были ли у вас какие-то трогательные моменты?
— Люди с нарушением слуха — они вообще очень открытые, добрые. Когда видят, что кто-то владеет жестовым языком, сразу радуются, улыбаются. Это момент мгновенного доверия, как будто говоришь: «Я с вами. Я вас понимаю».
К слову, стараюсь максимально популяризировать жестовый язык. Участвую в больших мероприятиях, выхожу на сцену вместе с артистами. Может, вы видели — я выступала с казахстанскими звездами на крупных фестивалях. Перевожу песни на жестовый язык. Это не просто перевод, а хореография, эмоции, ритм. Это настоящее искусство. Были выступления с группой «Ирина Кайратовна», с Сеймо. 31 мая была в Алматы на большом фестивале. Выступала с российским исполнителем.
Мне приятно, когда меня узнают. Среди людей с нарушением слуха многие знают: я активна в TikTok, веду Instagram, пою песни. В этом пространстве у нас свое сообщество, своя аудитория. Люди откликаются, поддерживают, пишут. Это вдохновляет.
— Скажите, сложно ли с новыми людьми находить контакт? Потому что понятно, например, мама-папа с детства, театр как вторая семья. А вот с посторонними людьми сложно?
— Когда впервые пришла в театр, это было… как будто я попала в совершенно новый мир. Представьте: всю жизнь общалась на жестовом языке только с мамой и парой ее подруг. Это был мой маленький, уютный круг. А тут — двенадцать подростков, у каждого свой характер, своя скорость общения, свои выражения. И вот я начинаю с ними «разговаривать». Наши руки — это наш голос. Но, оказывается, и у этого голоса может быть акцент. Меня вроде понимали, но не всегда до конца. Некоторые жесты я показывала по-своему, как привыкла с детства, а они смотрели на меня с удивлением: «Так уже не говорят. Это старомодно. Сейчас показывают вот так». И учили меня. Представляете, дети учили взрослого человека современному языку! И делали это с такой теплотой и терпением.
Я уже говорила: глухие, слабослышащие люди очень добрые, открытые. Они не осуждают, не смеются, а помогают. И сейчас, когда я уже полтора года работаю в театре, могу с уверенностью сказать: мой жестовый язык стал совсем другим. Я выросла. Если раньше я просто говорила как с мамой, то теперь могу свободно общаться с разными людьми, и меня понимают. Это такая радость — чувствовать себя частью большого сообщества. Иногда встречаю новых знакомых, людей с нарушением слуха или слабослышащих, начинаю «говорить» — и вижу в их глазах удивление: «Ты так хорошо знаешь язык!» Это дорогого стоит.
— Еще такой вопрос: вот вы говорите, они слушают музыку. А как, по вибрациям или как? Или в телефоне, насколько я знаю, есть специальная программа?
— Да, такое различие действительно есть. И оно очень ощутимо. Люди с нарушением слуха и слабослышащие — это, можно сказать, два совершенно разных мира. Не просто разные люди — именно миры, с разной культурой общения, с разным восприятием звука, языка, мира в целом.
Слабослышащие, как правило, грамотно пишут, говорят — иногда даже очень четко. Слушаешь и ловишь себя на мысли: будто не человек с нарушением слуха перед тобой, а иностранец — скажем, американец, выучивший русский язык. Есть в их речи какая-то необычная интонация, словно голос слегка «поет», интонации чуть другие, акценты не совсем привычные. «Здравствуйте, вы что хотели?» — говорят они, и это звучит немного иначе, чем у слышащего человека. Но все понятно, и даже очаровательно по-своему.
А вот у глухонемых совсем другой голос. Голос севший, глубокий, часто с трудом различимый для людей, которые не привыкли к такому тембру. И по этому голосу, по манере говорить сразу можно понять: перед тобой глухой человек. Точно так же и в переписке: по стилю общения, по построению фраз это различие ощущается. И не скажешь, что кто-то из них хуже или лучше. Просто они — разные. И это нужно понимать, когда общаешься с ними, работаешь с ними, живешь рядом.
— Какие изменения вы бы хотели в будущем увидеть в вашей сфере?
— Я считаю, что менять нужно многое и начинать с самого главного — с семьи. Потому что как все начинается? Рождается ребенок, ему ставят диагноз «глухота» или «тугоухость». И мама, папа, близкие — в полном шоке. Это нормально. Но проблема в том, что большинство родителей не знают и не стремятся выучить жестовый язык. А ведь это — основа общения с ребенком. Я это поняла через свою работу, через Instagram, через ТiкТок. Ко мне постоянно приходят сообщения от мамочек: «У меня ребенок слабослышащий. Я не знаю, как с ним общаться. Я не знаю жестовый. А вы обучаете?»
Есть даже случаи, когда ребенку уже десять лет, а он не ходит в школу. Я спрашиваю: «Почему?» Мама отвечает: «Я переживаю за него». Понимаю, это любовь, забота. Но это замкнутый круг. Ребенку нужно общение — с такими же, как он. Нужно, чтобы он видел, что он не один. Чтобы он мог дружить, шутить, развиваться. А как он это сделает, если никто вокруг него не говорит на его языке? Замечаю: те дети, чьи родители не владеют жестовым языком, часто не близки со своими мамами и папами. Просто потому, что элементарно не могут поговорить. Вот идет мама с ребенком в поликлинику. Ребенок спрашивает: «Мама, что врач сказал?» А мама: «Все нормально». Потому что не знает, как это объяснить. Или дома за столом вся семья смеется, что-то обсуждает. Ребенок смотрит и не понимает. Он спрашивает: «А что? А про что?» А ему отвечают что-то короткое, неполное. И он снова остается вне круга. Понимаете, это про то, как теряется контакт. Не потому, что нет любви, она есть. А потому, что нет языка общения.
Поэтому я считаю, что нужно развивать курсы жестового языка — массово, системно, повсеместно. Чтобы любой родитель, услышав диагноз, знал, куда обратиться. Чтобы были доступные онлайн-уроки, бесплатные мастер-классы, школы при больницах и реабилитационных центрах. Я, кстати, думаю об открытии такой школы в будущем. Очень много людей просят — и родители, и подростки. Представляете, 14-15-летние пишут мне в ТiкТок и Instagram: «Я хочу выучить жестовый, это так круто». Мне это очень приятно. Когда я была в их возрасте и общалась с мамой на улице жестами — на нас тыкали пальцем, шушукались. Мне было стыдно, я старалась не говорить с мамой на людях. А сейчас? Наоборот, смотрят и говорят: «Вау, это жестовый язык? Как интересно!» Появился интерес. Появилось уважение. Мы должны это развивать. Жестовый язык — это не что-то странное. Это полноценный язык, культурная ценность. И если общество хочет быть инклюзивным, оно должно говорить на языке друг друга.
Так что я бы очень хотела, чтобы такие курсы были. Чтобы они были частью школьной программы, частью медицины, частью жизни. Чтобы глухой ребенок не чувствовал себя лишним, а знал: мир его слышит. Даже если он не слышит мир.
Екатерина ТЫЩЕНКО